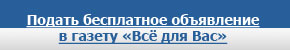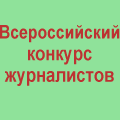Блог Михаила ПоповаОб авторе:
Прозаик, публицист. Родословная: Онега-матушка да Дон-батюшка. Начало трудовой биографии - предприятие «Звёздочка». Работал в заполярной геологоразведке, был профессиональным рыбаком, служил в армии... По образованию журналист. Из совокупности всего этого - характер, жизненная позиция и вектор творчества.
С ПОЧТЕННЫМ ЛЮБОПЫТСТВОМ ВЕРЯ В РОК
05.02.2013
Началась эта история весной 70-го года. Столетие вождя пролетарской революции – слава Богу – осталось позади. В редакции городской газеты «Северный рабочий» наступило относительное затишье. Однако для меня, корреспондента партийно-промышленного отдела, повышенная трудовая повинность после этого, увы, не закончилась. И дело было не в том, что у отдела был партийный профиль (и фас – добавлял я, показывая на ленинскую бородку моего шефа Славы Гладкобородова), и даже не в том, что я был самый молодой в редакции и, следовательно, безответный...
Так случилось, что незадолго до упомянутого столетия по календарю следовала ещё одна красная дата – Международный женский день, изобретённый единомышленницей вождя Кларой Цеткин. И вот эта красного цвета дата оказалась для меня в некотором роде арбузной коркой, на которой, бывает, поскальзываются. Восьмое марта выпало на воскресенье. Накануне в редакции был объявлен субботник. Это называлось юбилейной вахтой. «Сто лет – сто трудовых вахт!» – таков был тогдашний лозунг. Хорошо ещё, что не тысяча. До обеда редакция поработала. А потом трудовая вахта плавно перетекла в застолье. Редакционным столом сиденье, знамо дело, не закончилось. Мужская часть коллектива переместилась в строительный ДИТР, т. е. Дом инженерно-технических работников стройки, где у нас, как говорят рыбаки, было прикормленное место. Посидели знатно. Но... Видимо, опять недостаточно. Во всяком случае, меня, человека романтического и сентиментального, бражная волна повлекла дальше. Размеры города не совпадали с порывами окрылённого сердца, и я махнул на вокзал. Куда ехать, не думалось: либо в Ленинград, либо в Ульяновск. В Питере учился лучший друг, в Ульяновске жил дядя. Куда будут билеты – туда и махну: либо к другу, либо на золотой юбилей к дяде-фронтовику. Тогда и в голову не могло прийти, что в дальнейшем эта география станет ни много ни мало моим алиби. Как же: Ульяновск – родина вождя, Ленинград – колыбель революции. И всё это накануне всенародного торжества. Что ни говори, а с политической-то точки зрения не подкопаешься! По дороге на вокзал я заскочил в кафешку, где частенько заседала наша дворовая компания – другая составляющая моей тогдашней жизни, и раздобыл там десятка два 50-граммовых бутыльков «Столичной». Куда сложить такую батарею? Набил малокалиберными снарядами все имеющиеся карманы – и пальто, и брюк, и пиджака. А из нагрудного кармашка две головки торчали, аки газыри. Вот с этими боеприпасами я сел в поезд и покатил. Куда? Да в Москву. «Все дороги ведут в Рим», а у нас – в столицу, даже та, что на Питер. Просто на Ленинград в тот день не было поезда. Время стояло межсезонное. Вагон оказался пустой. Все пассажиры, увлечённые моим призывом, поместились в одном купе. Места хватило и для проводника, немолодого, но компанейского мужика, и для его жены – его же напарницы. А застолье наше вышло отменным. Чета проводников выставила отварную картошечку. У одного из попутчиков оказалось сальцо , даром что он ехал с севера на юг, а не наоборот. А ещё по чьему-то велению да общему хотению на скатёрке-самобранке появилась серебряная селёдочка – первейшая русская закусочка. Ну как тут было не завиться душевному да сердечному пированьицу, благо в моих карманах зазывно булькало. Посиделки вагонные затянулись за полночь. Двум русским, чтобы переговорить, не хватит и бесконечной сибирской магистрали, а тут собралось трижды по двое. Говорили, пели, снова говорили. То вразнобой, то слушая, то смеясь, то споря. И так до тех пор, пока оставались запасы да силы... ...Очнулся я на очередной остановке. В вагоне появились новые пассажиры, их говорок и разбудил меня. Выглянул в окно. Мать честная! На фасаде вокзала – «Ярославль». Выходит, уже некрасовские места! «Выдь на Волгу! Чей стон раздаётся над великою русской рекой?» Стона покуда не было. Выть ещё было рано. Но тревога похмельно-совестливая уже возникла. Ведь наступил понедельник. В редакции вовсю кипит работа, коллеги хлопочут над завтрашним номером... А главное – матушка... Я ведь не известил, что отправляюсь в дорогу. С ума, поди, сходит! Живо одевшись, я спустился на перрон. «Смотри не опоздай, – этак по-свойски предупредила проводница. – До отхода всего десять минут...» Я кивнул – язык не ворочался – и, убыстряя шаг, поспешил к... билетным кассам. Обратный поезд приходил через три часа. Мелочи хватило только на общий вагон, но я и этому был рад. В редакции с похмельно-повинной головой я оказался во вторник утром. В кабинете редактора сидела зарёванная матушка. Они с Петровичем как раз обсуждали, пора уже заявлять в милицию или ещё погодить. Слёзы, причитания, укоры, осуждающе-грозный взгляд редактора – всё, что полагалось в таком случае, я испытал. Далее следовала объяснительная – жанр для меня неведомый. Заметуля, репортаж, зарисовка, фельетон, статья... – всё это я более или менее освоил, а с объяснительной дело доселе иметь не приходилось. Меж тем... Шеф, Слава Гладкобородов, строго на меня взиравший, заключил, что выговора мне не миновать, но какой он будет – простой, строгий или с занесением... – зависит якобы от этого самого объяснения. Когда шеф поворачивался к пишущей машинке, профиль его напоминал силуэт вождя, поднявшегося на броневичок, дабы произнести пламенную речь, но в момент перехода от удручённой физиономии подчинённого и обращения к редакционной передовице за очками его вспыхивали явно озорные искорки. Слава ведь был поэт и в известной степени гусар. А редакционная версия моего прогула вполне вписывалась в его поэтически-гусарские понятия. Да, представьте себе, уже существовала редакционная версия. Оказывается, считалось, что я подался в стольную сторону вслед за одной юной практиканткой – студенткой МГУ, которая снялась с места как раз после редакционных посиделок. Оспаривать эту легенду, как выражаются в разведке, видимо, не имело смысла: какая разница, кто срывает твоё сердце и увлекает вдаль – реальная особа или мифическая муза, коли это не задевает твоего достоинства! А что касается объяснительной записки, то тут я расстарался. Получилась, по сути, передовица, написанная в канонических традициях тогдашнего агитпропа, где воспевалась родина вождя, куда имярек стремило комсомольское сердце, дабы причаститься святыни. Будь я на месте редактора, поставил бы сие творение в очередной номер, до того всё вышло душевно и убедительно. Это я, разумеется, сейчас так думаю. А тогда... Объяснительная моя, несмотря на явную с нынешней точки зрения ересь, была принята, выговор свой я схлопотал, но это был обычный, рядовой выговор, без занесения в трудовую книжку, что никоим образом не могло отразиться на дальнейшей моей биографии. Правда, повинность трудовую отрабатывать всё же пришлось, выполняя массу подённой черновой работы. Наваливали её все, кому не лень или кому лень было что-то делать. А уж редактор и ответственный секретарь держали провинившегося сотрудника в чёрном теле, гоняя туда-сюда, аки мальчика на посылках. Тот день, с которого всё и началось, исключением не был. Тем паче, что время было отпускное. Я правил, а по сути переписывал с начала до конца, заметули рабкоров, готовил письма – одни к печати, другие для отправки по инстанциям, вычитывал полосы... Работы навалилось столько, что чаю некогда было глотнуть. Наконец часам к двум моё брюхо не выдержало и погнало на перекус. И вот тут, когда я уже поднялся из-за стола, двери кабинета отворились. Валентин Саныч, наш ответсек, пропустил вперёд какую-то женщину, а сам, оставаясь в притворе, наставительно сказал, чтобы я выслушал посетительницу и принял какое-то решение. Если бы тут был шеф, он, вероятно, отстоял бы меня, сославшись на неотложное задание – мол, через полчаса заседание ПДПС или сбор президиума городского комитета народного контроля или, на худой конец, сессия ООН, – но Гладкобородова не было: в начале лета Слава укатил в отпуск и сейчас на «казанке» летел по Волге в сторону Казани, а может, и Астрахани. Что оставалось делать? Пришлось уступить, даром что брюхо моё выводило отчаянные рулады. Женщине казалось лет сорок. Но, может, и меньше. Мне, тогда 22-летнему, и 30-летние виделись пожилыми. Незнакомка была облачена в серый болоньевый плащ, застёгнутый на все пуговицы, а под подбородком – на английскую булавку. Было, напомню, лето. Я предложил ей раздеться, но она пропустила моё предложение мимо ушей и даже берет не сняла. Что запомнилось в её облике, так это глаза. У неё были какие-то...–как бы выразиться – стоячие глаза. Вот! Не неподвижные, а именно стоячие. Она не вращала ими, не ворочала, не закатывала, то есть взгляд свой не скашивала, не отводила в сторону, не опускала – она поворачивалась к собеседнику всем своим лицом, словно полная луна. Это взгляд, прямой и немигающий, видимо, и заворожил меня, приковав и сфокусировав внимание. Женщина извлекла из холщовой продуктовой авоськи пачку общих тетрадей – это были семь толстых тетрадей в чёрных коленкоровых переплётах – деловито придавила их твёрдой, не по-женски широкой ладонью и заговорила. Речь её была ровной и бесстрастной, словно слышался какой-то инструктаж, записанный на магнитофонный ролик. Это бесстрастное звучание вкупе со взглядом, немигающим и неподвижным, создали какое-то странное силовое поле. Я забыл про обед, про работу, про то, где я и, кажется, кто я, а всё слушал и слушал, уносясь мыслями и чувствами в неведомую, но определённую ею даль, пока окончательно не выпал из времени... Что было дальше, вы, уважаемые земляки, можете узнать, если обратитесь к моей новой книге, которая называется «Горизонтальная книга странствий». Не стану утверждать, что та – сорокалетней давности – встреча определила мою судьбу. Всё в руке Божьей! Но, возможно, она повлияла на географическую составляющую будущего. И теперь, когда я оглядываюсь назад, нет-нет да вспоминаю ту странно-загадочную женщину, которая в моём сознании перекликается с образом пифии, т.е. прорицательницы. А что?! Разве не влечёт нас порой что-то бессознательное? Ещё как! Вот и меня, похоже, сопровождало все сознательные годы нечто бессознательно-интуитивное – то, с чего начинается моё тогдашнее стихотворение, которое я поместил в книгу в качестве эпиграфа: Разматывался солнечный клубок, И я, как в перспективнейшей из сказок, Стремился в перспективу – не на праздник, С почтенным любопытством веря в рок… Комментарии
|
Возрастное ограничение
  Главные новости
|