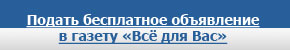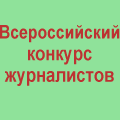- Северодвинск
- Общество
- Происшествия
- Регион
- Корабельная сторона
- Старый город
- Слухи недели
- Интервью
- Эмоция недели
- Я — болельщик!
- Афиша
- Народный репортер
- У всех на устах
- Первая реакция
- Полезные газеты
- Культура
Картошка по-солдатски30.11.2016
Изменить размер шрифта

Фото vmirelady.ru
За овражком, что рассекает Горную улицу, как противотанковый ров, второй дом по правую руку за мостком - Василия Сидоровича. Тридцать лет он живёт тут безвыездно, а теперь и безвылазно: куда подашься на одной ноге, если за плечами давно за семьдесят?
Горит печь. Поплескивает красными языками в расползающиеся сумерки, постреливает золотыми брошками-застежками, разлетаются они сизыми осколками, напоминая старому солдату о жарких боях, о веселых и тяжких походах, о том, что уже отошло туда, откуда никакой кочергой не выгребешь. А ведь был и он — конём не
стоптать, солдат был, богатырь! Картошку и сейчас варит по-солдатски.
— Ты знаешь, как варить правильно? - спрашивает он, улыбаясь из седой щетины и поблескивая полынно-сизыми глазками. - Дюже чисто не мой. Там, разными щеточками, как пишут, мочалочками не три. Нужно, чтобы землей немножечко припахивала. Разрежь. Соли покруче, не бойся. И — в пыл. Люблю с разварочки, рассыпчатую! А лапша, там, разные каши — хоть перловка, хоть и гречка - приедаются. Даже яблоки. День поешь, два, а там... А картошка — никогда. Что за фрукт такой?! Теперь как живём? Слава богу, есть что жевнуть, не то, что в войну или, скажем, в сорок седьмом. Теперь сахару едим больше, чем тогда хлеба.
— Неужели так, Сидорыч?
— А то как же? Скажи сейчас молодым: «карточки» - засмеют, глаза на лоб, подумают, фото, а про хлебные, про рыбные и на всякие крупяные и не слыхали. В Ленинграде: эти самые хлебные по шестьдесят граммов в сутки давали.
— Ну а еще-то чего?
— Шестьдесят граммов — и все. Да кабы хлеб - сухари, наполовину с мышиным говном, позеленевшие, как...
— И не говори...
— Это гражданским. Бывало, стоит очередь у магазина в 3—4 ряда, человек, может, тыща, а то и больше. А радио: «Внимание, граждане! Объявляется воздушная тревога! Всем укрыться в бомбоубежище!» Очередь и не ше-лох-нёт-ся! Тысячи — и не двинутся! За хлебом под бомбами стояли! Глядим —летят крестатые. Ну, мы, военные — другое дело, а радио: «Приказываем укрыться в бомбоубежище!» И никто! «Что сейчас, — говорят, — умирать, что немного погодя». Немец — бомбить. Наши — по нему, он — по нам. И такая карусель в небе закрутится, такая кутерьма на земле завяжется, что не приведи Бог!
Он помолчал, затряс липовой деревяшкой, достал кисет — и синеватая пелена поплыла по избенке.
— Ленинградцы — золотой народ: чего не спроси — все объяснят, сделают, отдадут последнее, поделятся. Я там всю блокаду был, от первого до последнего дня. Нагляделся... Дружок у меня был. Он на охране Смольного стоял. Пушки-зенитки там у них на крыше, ночью зажигалки сбрасывали. На дежурство ходили. Помню, говорит, поднимался на крышу — лежал у подъезда убитый, спустился утром — у него уже ляжка отрублена. Го-лод... — прохрипел Сидорыч. Затянулся и долго не выпускал дым почему-то. — Это действительно город-герой!
— Помню, еще склад муки стоял. Шириной вот как наша изба, метра три высотой и длиной как отсюда до школы, метров двести. Замаскировано всё как следует, сосенками обставлено, белым материалом обтянуто.
И все-таки разбомбил, подлец. Как начал молотить — только пыль! Мешки в воздух летели, в пух-прах измесил всё. А потом листовки: «Сдавайтесь, пока с голоду не подохли». Показать бы это сейчас всё — не поверили бы: люди снег лизали, ладонями собирали муку со снегом. Я теперь, как Настя дает коровёнке ломоть перед дойкой, глаза зажимаю, перед самим собой совестно. Это же хлеб! Жизнь наша! — И закачался на табуретке, закашлялся, поскрипывая табуреткой.
— Я сейчас только что у отца книжку видала, — сказала Настасья Герасимовна. — «Облахада» называется.
— «Блокада Ленинграда», - строго поправил муж. (Хотя книжка, как я узнал позже, называется «Ополченцы надели кители».)
— Да, может, и так, - согласилась Настя. - Там картинки всякие: как в очередях убивало молоденьких, у проруби на Неве — салазками, и сказано: «А ведь они могли бы жить». Лежат. Люди рядом. Смотрят. Стоят... И ещё написано, без чего жить можно: «Без сахара, без жиров, без картошки, а без хлеба - нельзя».
— Без хлеба — никуда! - пробасил Сидорыч. — Всему делу голова... Вот нам, военным, например, сто двадцать граммов давали.
— Как, всего сто двадцать?
— Да-а-а.
— А сколько же раз ели?
— Сколько хочешь, столько и ешь, - улыбнулся.
— Ну а приварок?
— Ба-лан-да! — зло отрезал. — Болтушки нальют, пока с кружкой от кухни идешь, выпьешь.
— А почему с кружкой?
— Котелком делать нечего было.
Помолчал, что-то, видимо, еще вспоминая, и, как отлегло, полушутя добавил:
— И немец подкармливал. На то она и Невская Дубровка. Начнёт долбать — всё с землей смешает... Своим консервы кинет, а ночь — нам достается который раз.
— Слыхал про эту Дубровку. И в книжках читал. Она вроде косы, тянется по карте эта Дубровка?
— Вот-вот. Вдоль Невы. Там мы стояли. Пушки с колес поснимали.
— Так вы, Василий Сидорыч, с самого начала в обороне Ленинграда участвовали? — переспросил я, впервые обратившись на «Вы» и поняв вдруг, что даже ставить себя рядом с ним нельзя, нескромно как-то — не награды определяют заслуги человека перед Родиной, а его личный вклад в дело Победы.
Хоть я два года с лишним не отходил от своих «катюш», немало помолотил, и ранен, и контужен, и награды есть, но все это ни в какую меру нельзя сравнить с заслугами Василия Сидоровича Аверьянова, награжденного лишь одной Красной Звездой, но так и не получившего медали «За оборону Ленинграда». Помимо трёхлетнего голодания, ежечасной угрозы смерти, отчаянных артиллерийских дуэлей с фашистскими батареями, Сидорыч вложил в этот фонд Победы не только храбрость, мужество, но и фунтов пятнадцать своего тела, крови и боль свою, всё, что есть самое лучшее в жизни, — молодость.
— Значит вы блокадник? — переспросил я.
— С первого часу, — сказал Сидорыч. — Только проскочил эшелон, и сомкнулись клещи. Как успели — сами не знаем. Восемь километров разрыв сперва был, а как проскочили, слыхали — восемьсот метров оставалось. Половина погибла...
— А откуда вы ехали?
— Из-под Москвы.
— А под Москву как попали?
— А из-под Ленинграда. Когда немец на Москву наступал, нас бросили на московское направление. Там я и Жукова видал.
— Неужели?
— Вот как тебя.
— Как же это?
— Не помню, на какой станции... Прибыла сибирская дивизия. Подкрепление. Дыры латать. Под Москвой сначала и сплошной обороны-то не было. Новенькие все эти сибиряки, чистенькие, точно гривенники, аж блестят. Разгрузились. Пушки, ящики в стороне, машины. Солдаты, офицеры кучками ждут приказа. И вдруг, откуда ни возьмись, «виллис» подкатил. И — военный. В плаще. Плотный такой, словно из чугуна вылит, — и к офицерам. Как начал «укладать»... как начал «укладать»... Офицеры вытянулись, очумели будто. А он: «После козырять будете! Вы что, говорит, не знаете, куда прибыли? Вы думаете, немец там? — и показал на Сибирь. — А он — вот он!»
Подбежал командир — и сразу стронулось всё и пошло «вперед!» Пошло, загремело. Я поотстал от своих, не помню, как случилось, наши впереди уже были, подошёл к шоферу, спрашиваю: «Скажи, браток, кто это?» — «Маршал Жуков».
У меня аж дух перехватило. Вот он, оказывается, какой! А шофер: «Не успеваю рулить, того гляди, из глаз упустишь». Вот тут всего раз и видал. Под Москвой. Да, а как от Москвы отогнали, нас опять под Ленинград бросили, и в тот день, как прибыли, замкнулось кольцо. И чего там только не было, в этом кольце! Стояли насмерть... Три года, до тех пор, пока не прорвали. А знаешь, как в обороне сидеть?! Ждёшь. Ходишь. Куришь. Что будет через час-два - не знаешь. Стараешься не думать, а мысли все равно, точно льдины весной, сплываются, в омуте кружатся. Смолишь одну, бросаешь, другую завертываешь. 14 января было 1944-го. Под утро и табак, и папиросы кончились. Смотрим — ракета. Холодно. Небо седое, серое. Одна взвилась, другая и красная!
«Огонь! Огонь!» — раздались команды. Дрогнули перелески, болота, дрогнул воздух, опрокинулось небо, засветилось. У нас пушки здоровые. Впереди бьют, сзади, с флангов, кричи чего хочешь — не услышишь: только по губам да рукам разговариваем. Гром из стороны в сторону шарахается — бывает ведь, когда летом гремит, раскаты... Оглохли. Час бьем, другой, третий. Снег растаял, почернело вокруг. Я думал, на нашем участке, а оказывается, по всему Ленинградскому фронту. Только кончаем, другие начинают, потом самолеты. Одни разгрузятся, другие летят. Эти отбомбят, третьи... А как «катюши» заиграли, вот началась музыка!
Потом танки пошли. Сверху штурмовики прикрывают. Одна батарея вперед, другая сзади. Здорово все было отлажено. «Взаимодействие всех родов войск», — торжественно произнёс Сидорыч слова, которые так часто встречались в приказах Верховного Главнокомандующего.
— Немцу главы поднять не давали. Но сопротивлялся отчаянно. Огрызался. В прорыв за танками пошли саперы, дорогу расчистили, Прорвали блокаду. Три дня я ещё наступал со своей батареей. Три последних...
17 января сидим, обедаем под бугром. Принесли сала, кипятку, сухарей. И вдруг — ух! Как ахнет! Тяжелый. Семерых наповал. Свернулась моя нога, повисла на голенище. Положили на носилки, принесли, укол от столбняка кривой иголкой дали...
— А зачем кривой?
— Прямой, видно, не было... Двойную норму всадили, чтоб заражения не было, санинструктор спирту в поварешке поднес. Лежу... Нога как тумба стала, краснеет, заражение пошло... Жгуты не помогают. Госпиталь в лесу стоял, а там нашего брата. В сарае на соломе! А немец бьет, достаёт. К вечеру до Ленинграда добрались. Ампутировали. И пошёл я по госпиталям. Сначала в Ладогу, потом еще куда-то, потом в Свердловск попал...
В 1933 году молодой зигазинский углежок натянул на плечи гимнастерку... Легкой показалась ему русская семилинейная винтовка, весившая чуть ли не полпуда, легкая в сравнении с полутораметровыми березовыми плахами, что сажал в печь Сидорыч.
О многом он вспоминал... И то, как, весело чеканя шаг, подходили они к столовой. С песней. Оттуда, словно из улья, доносится ровный дружный гул, льются звуки духового оркестра, манит нестерпимо здоровая солдатская пища.
— Выше ногу! — командовал старшина батареи.
«Р-раз, р-раз, ах-ах!» — отдавалось под сапогами. На всю ступню ставил Сидорыч «ножку», полный сил и необычайной легкости, какая бывает только в молодом и здоровом теле. Он готов был, казалось, насквозь пробить земной шар! Глухой пыльный плеск взлетел из-под ног красноармейцев.
— Бат-та-рея! — растягивал лихо старшина и, чуть задерживаясь и пропустив для форсу пару тактов, с гиком обрывал: «Стой!» И всё замирало. Только облачко пыли, тащившееся сзади, налетало, обволакивая темные спины батарейцев.
Предвоенные годы. Годы перевооружения и создания сильной кадровой армии. Восемь лет отслужил Василий Сидорыч в кадрах. Потом война. Это он стоял на защите Москвы, у пушек, снятых с колёс, — у Невской Дубровки, у Детского Села. Он прорывал и оборону...
Ищут, наверное, следопыты из Невской Дубровки, из Ленинграда защитников, освободителей. И не найдут, как и не нашли прежде. Непреодолима наша человеческая косность и равнодушие. Это только у Агнии Барто: «Никто не забыт, ничто не забыто...»
Однажды я видел его торжественно-радостным, ликующим. Был май. Ковыляет на липовой деревяшке, опираясь на костылик. В чёрном «диагоналевом» костюмчике, такой милый, чистенький, побритый, на груди развеваются атласные концы галстука... От клуба до дома шёл у всех на виду через три улицы, шёл к Настасье Герасимовне почетный пионер.
— Вот дурень старый! — воскликнула восхищенно, всплеснула руками и засветилась от счастья.
— Пионеры... Наградили... Приняли в отряд, — оправдываясь, ответил Сидорыч. Он даже покраснел, то ли от отблесков алой ткани, то ли от лучей Красной Звезды, что красовалась на лацкане.
Двух сынов вырастили они с Настей. Интересная и трудная жизнь у Bacилия Сидоровича. Всеобщее уважение в посёлке. Всегда у них люди. Добавили пенсию...
— Ну, как жизнь? — спросил он меня.
— Ничего, идет потихоньку, как вы?
— Тоже ничего. Куда теперь спешить? Вот сердчишко начинает пошаливать, а так бы живи.
— Интересно вы прожили жизнь, — сказал я ему.
— Не так интересно, как трудно. — И заковылял на свою Горную.
Нет уже Сидорыча, умерла и Настя. Да и из моих дружков уже никого в поселке. А уходило сразу 180 человек...
Игорь Павлович Максимов, лауреат премии им. А. Роскова, 453550, Р. Б., Белорецкий район, с. Тукан
Газета "Пенсионерская правда", 9-2016
Сюжетная линия по данной теме:
|
Возрастное ограничение
  Главные новости
|